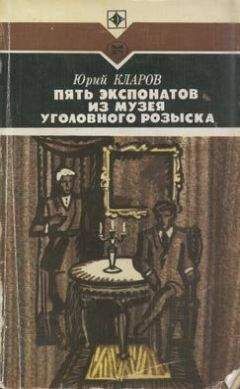Из соседней комнаты послышался голос физика:
— Ребята, вы не скучаете там? Сейчас я приду, я уже заканчиваю.
Часа в три меня уложили подремать на диване, а в восемь физик отвёз меня в гостиницу. Я поднялся на пятый этаж, преодолел коридор с красной дорожкой и коридор с синей дорожкой, и дежурная вручила мне вместе с ключом записку — сверхлюбезное и настойчивое приглашение Лирика на обед в семейном кругу. И не было основания отказаться. Физика я посетил, почему обижать отказом Лирика?
Лирик жил на окраине, где-то за Старой Деревней, в вылинявшем серо-голубом доме с резными наличниками. Видимо, лет двадцать назад здесь были дачи; теперь город пришёл сюда, многоэтажные корпуса обступили садики, выше сосен поднялись строительные краны, под самым забором Лирика, рыча, ёрзал бульдозер. Я долго ждал за калиткой, слушал нервический лай собаки, потом меня провели через мокрый сад с голыми прутьями крыжовника и через захламлённую террасу в зимние горницы. Там было натоплено, уютно, душновато и стол уже накрыт. Опять я пил, на этот раз приторные домашние наливки, и закусывал маринованными грибками, подгорелыми коржиками и вареньем пяти сортов.
Лирик рассказывал о своём саде: какие там летом яблони, и жасмин, и настурции, и ноготки, и где он достаёт черенки, и откуда выписывает рассаду. Показывал трофеи охотничьих похождений: чучело глухаря, шкурку лисицы. А я слушал и удивлялся: зачем же было нападать так яростно, чтобы потом радушно угощать? Все ждал объяснений, потом сам завёл разговор.
— В литературе есть темы и есть детали, — сказал я. — Книги пишутся не о насосах.
— В точности это самое я и говорил вчера, — подхватил Лирик. — Вы понимающий инженер, это чувствуется в каждой строчке. Но книги пишутся не о насосах. Есть только три вечные темы: любовь, борьба, смерть.
— Я и писал на вечную тему, — упрямился я. — Писал о вечной борьбе человека с природой, скуповатой и неподатливой. Писал о споре разведчиков с домоседами. Во всех веках идёт дискуссия: рваться вперёд или тормозить? И что впереди: вечный подъем или предел, застой и гибель? Мне лично скучно было бы жить, знай я, что моё поколение предпоследнее. Вот и хочется показать, что впереди простор, наука может обеспечить тысячелетнее движение…
И тут в разговор вмешалась жена Лирика. До сих пор она сидела молча, с поджатыми губами, ни слова не говоря, пододвигала вазочки с вареньем.
— Что она может, ваша наука? Лечить не лечит, губит все подряд. Вот-вот-вот! — Она показала на окно. — Такая благодать была, выйдешь на террасу, сердце радуется. А теперь на розах копоть, яблони не плодоносят. А вы говорите: “Наука обеспечит!”
И она выплыла, хлопнув дверью, монументальная, полная достоинства и благородного гнева.
Лирик, несколько смущённый, погладил мою коленку:
— Не обижайтесь на неё, дорогой. Вы поймите: людям нужны простые понятные радости: бабушке — внуков понянчить, дедушке-с удочкой посидеть у залива, послушать музыку тишины. Сейчас за тишиной надо ехать в Карелию, километров за двести. На двести километров от города под каждым кустом бутылки и консервные банки. И тут ещё ваша мечта о насосах, выпивающих море. Я прочёл, меня дрожь проняла. Представил себе эти ревущие жерла, глотающие всю Малую Невку зараз. А потом вместо залива топкий ил, вонючая грязь отсюда и до Кронштадта, ржавые остовы утонувших судов, разложившиеся утопленники. Дорогой мой, не надо! Пожалейте, будьте снисходительны. Оставьте в покое сушу, море и нас. Мы обыкновенные люди с человеческими слабостями. И писать для нас надо, учитывая слабости: чуточку снисхождения, чуточку обмана даже, утешающего, возвышенного. А у вас холодная и точная логика конструктора. Она словно сталь на морозе, к ней больно притронуться. Вы цифрами звените, как монетами, все расчёт да расчёт. Для писателя у вас тепла не хватает.
И вот, разоблачённый, я лежу на гостиничной койке, бессильно свесив руки. Для науки у меня не хватает воображения, для литературы — тепла. И тут ещё является читатель, который, испытав величайшее наслаждение, хочет изъявить чувства лично…
Стук!
Как, уже? Преодолел лифт и две ковровые дорожки?
— Миль пардон! Я имею честь видеть перед собой?..
Грузный, лысый, с шаркающей походкой. А одет нарядно: запонки на манжетах, манишка, старомодный шик. И французит. У нас это вышло из моды лет пятьдесят. Из эмигрантов, что ли?
— Простите, по телефону не расслышал вашу фамилию.
— Граве, Иван Феликсович Граве, с вашего разрешения.
— Астроном Граве? Но мне представлялось, что вы гораздо старше.
— Я не тот Граве, не знаменитый. Тот — мой двоюродный дядя. Он умер недавно в Париже. Меня тоже увезли в Париж мальчиком Там я учился, там работал. Но Петербург в моей семье всегда считали родным городом. И вот удалось вернуться на склоне лет.
“Ну и чего же ты хочешь от меня, племянник знаменитого дяди?”
— Миль пардон, — пыхтит он. — До сих пор я не имел чести лично, тет-а-тет, беседовать с писателем, жени-де-леттр. Даже смущён немножко. И недоумеваю. По вашим вещам я составил себе представление о вас, как о юноше порывистом, нервозном, с пронзительным взором и кудрями до плеч. Я полагал, что фантастика, как поэзия, жанр, свойственный молодости. А вы человек в летах, склонный к тучности, я бы сказал…
“Что за манера — прийти в гости и вслух обсуждать фигуру хозяина”.
— Внешность обманчива. Кто же судит по внешности?
— Слова мои — чистейшая демагогия. Все мы судим по внешности. Молоденькая и хорошенькая — значит милая девушка. Прилично одет — уважаемый человек, плохо одет — подозрительный.
— Но согласитесь, однако, что человек с моим обликом не может сделать великое открытие.
“Все ясно — непризнанный изобретатель. Сейчас будет уговаривать написать о нем роман”.
— Для открытия прежде всего нужна аппаратура, — говорю я. И собираюсь повторить слова Физика о синхрофазотроне.
— Да-да, аппаратура, оборудование, — подхватывает он. — Астроном, прикреплённый к рекордному телескопу, как бы получает ярлык на открытие. Впрочем, и тема играет роль. Вы заметили, что широкую публику интересуют не все разделы астрономии, а только экстремальные, краевые. С одной стороны — очередное, достижимое: Луна, Марс, Юпитер, с другой стороны — наиотдаленнейшее: квазары, пульсары, предельное и запредельное. Альфа и омега!
— А на вашу долю выпала буква в середине алфавита?
— Именно так, отдаю должное вашей проницательности. Мю, ню — что-то в таком духе. Выпала, досталась, определена судьбой. Знаете, как это бывает: молодой специалист идёт туда, где место есть. Дядя устроил меня к Дюплесси, шеф занимался шаровыми скоплениями, мне поручил наблюдение переменных в шаровых. Так я и застрял на этой теме. А кого интересуют шаровые? От Солнца тысячи или десятки тысяч парсек. Практически недостижимы, философского интереса не представляют. Среднее звено. Учёный, работающий в среднем звене, невольно считается средним.
![Георгий Гуревич - В зените [Приглашение в зенит]](https://cdn.my-library.info/books/64666/64666.jpg)